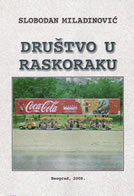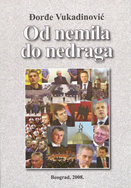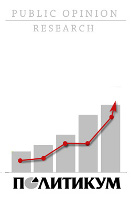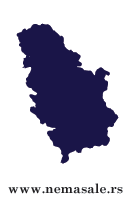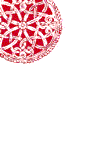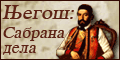| НСПМ по-русски | |||
Полуустав для полугосударства |
 |
 |
 |
| понедељак, 15. децембар 2008. | |
|
Я долго спрашивал себя, как в свое время было возможно, чтобы устав 1974 г., по которому СФРЮ фактически была подвергнута конфедерализации и заложен фундамент для ее будущего распада (что, конечно, не освобождает от ответственности исполнителей и непосредственных действующих лиц этого смертного приговора). Следовательно, как это так, что один настолько плохой, деструктивный и антигосударственный акт был принят без особого сопротивления. За исключением группы преподавателей Белградского юридического факультета во главе с Михаилом Джюричем, тогдашний устав, а точнее предшествовавшие ему поправки, были приняты практически без прений, в атмосфере праздника с приветственными аплодисментами «новой фазе развития нашего социалистической самоуправного объединения». А тому, кто не был слеп, уже тогда все было ясно: и то, что государство конфедерализуется, а Югославия уже почти только географическое понятие», то, что «на ее развалинах и то под маской последовательного развития равноправия… сегодня образуется несколько самостоятельных, независимых, даже взаимно противопоставленных национальных государств». Но мало кто видел – а еще меньше было храбрости доходчиво всем рассказать то, что видели. Важно вспомнить то время и тех людей, их споры, напечатанные в запрещенных «Анналах» юридического факультета (№3, 1971) не только из уважения к их уму и храбрости, а по причине тревожных аналогий между этими двумя историями. «Выдуманные смуты» - так называется актуальный и сегодня текст профессора Джюрича, из которого мы взяли вышеприведенные цитаты, а уже и само заглавие очерка профессора Андрие Гамса: «Исторически – промах, по-научному – сумбур» красноречиво ставит диагноз тому, о чем идет речь. Предложенные поправки вызвали острую критику и Стевана Врачара, и Косты Чавошки. А для нашей темы, возможно, более актуально звучат слова Павла Николича: «Этими поправками нарушается суверенность Республики Сербии как государства и ее равноправие с другими республиками». Но правящая идеологическая и политическая матрица тогда говорила, что два края в одном составе – «богатство Сербии» и ее «сравнительное преимущество» по отношению к другим союзным республикам, при чем остается извечный вопрос, почему никто не вспомнил, скажем, как похожим образом «обогатили» Хорватию, Боснию или Македонию!? А боясь, что предложенным переносом ответственности на республики и края, государство останется без содержимого и смысла, отложенная глупой догадкой Бакарича, о том, как в будущем «федерация сфедерирует» интересы республик и краев. Идеологическая матрица между тем изменилась. Тогдашняя социалистически-самоуправная парадигма была заменена актуальной «евро-реформаторской» риторикой, которой кишит сегодняшний проект статута, но на деле оставшейся такой же инертной комбинацией глупости, страха и оппортунизма. Народ в основном смотрит в свою тарелку, а элита заботится о своих интересах. А после все спрашивают себя, «что нас ждет» и «как с нами это случилось». Мало одной статьи, чтобы упомянуть все сколько-нибудь проблематичные вопросы. Но, например, очень показателен пункт 16, в котором говорится, что «АК Воеводина заключает международные договоры в рамках своей компетенции» и «может основывать представительства в регионах Европы и Брюсселя». Мимо уха, не натренированного в правовых тонкостях, может и проскользнет семантический нюанс между «заключением международных договоров», о которых говорится в статуте и единственно правильными, уставными и законными формулировками о подписании «соглашений о сотрудничестве» с обязательным одобрением правительства. Но каждому, кто в последние два десятилетия жил на территории Воеводины не может не показаться знакомым и угрожающим «создание представительств в Брюсселе». И нельзя не вспомнить, как и в Хорватии, так и в Словении, Черногории, начало их отделения сопровождалось созданием «экономических и культурных представительств» в важнейших западных столицах, а все ради представления «промышленных, культурных, научных и т.д. возможностей». Даже и единичные, относительно безвредные терминологически новшества, как например: «главный город» вместо «резиденции краевых органов», или забытый вопрос о воеводинском «правительстве» и «министрах» вместо сегодняшнего «краевого исполнительного веча» и «секретаря», - похожие примеры более, чем ясно, показывают и открывают, как сознательные, так и несознательные гособразующие претензии автора воеводинского статута. А особенно эти претензии «оголяются» предложениями об основании Воеводинской академии наук и искусств, или уже упомянутыми «международными соглашениями» и «представительствами», как и временно потускневшей иерархией краевых и республиканских органов. В остальном, достаточно лишь прочитать первую статью, в которой Воеводина определяется как «многонациональный, мультикультурный и поликонфессиональный демократический вропейский регион» (курсив – Д.В.), чтобы совсем явственно увидеть, что европейское определение концентрированно, а то сербское («в составе Республики Сербии») больше фактографическое, склонное к изменениям и так сказать факультативное. Вкратце, подводя итоги вышеизложенному, предложенный статут Воеводины во многом превосходит свои уставные рамки и контекст приемлемой и желаемой регионализации и территориальной организации Сербии. Многие его положения (статьи), так сказать, «вопящей» несогласованности с действующим уставом Сербии были бы вредны, даже если по какой-то случайности таковыми не являются. Это некий вид преходящего «полуустава» для некоего будущего воеводинского полугосударства. А в любом случае, все это - отличная заготовка для каждого будущей внешней и внутренней дестабилизации Сербии, угрозы ее суверенитета и коверкание ее уставного устройства. И только пусть мне после никто не говорит «я не знал». (24.11.2008) |
Од истог аутора
- Черногория в НАТО и новая геополитическая действительность на Балканах
- Путинов «Турецкий марш» или русское «быть или не быть» на Балканах
- Перед Ангелой ползают, Путину подмигивают, для Запада работают
- «Небольшие разногласия среди друзей», или коварное нападение на сербско-русские отношения?
- Может ли Россия победить, или по крайней мере не проиграть в навязанной украинской игре?
- Ложная дилемма
- Путин и Сербы
- Перед матчем, которому не быть
- "Русские улицы" - сербский позор
- Ни Косово, ни Европа
- "Хорватия не будет расплачиваться своими территориями"
- 'Неприсоединившаяся' Сербия
- "Русские идут" или любовь к Родине для начинающих
- Пред вратами потерянного рая
- Пощёчина, которая должна образумить
Остали чланци у рубрици
- Москва je коначно престала да се претвара да не примећује дволичност званичног Београда и његово де факто директно саучесништво у убијању руског народа
- В Берлине хотят решить судьбу Косово без России и против неё
- Две программы и два лица Александра Вучича
- Балканская политика Евросоюза - трудный путь к предательству Сербии
- Черногория в НАТО и новая геополитическая действительность на Балканах
- Печальный опыт Сербии: как разделить народ, разделив язык
- Злочини батаљона "Ајдар"
- Париж – Берлин – Москва – Белград, новый договор в Европе
- Путинов «Турецкий марш» или русское «быть или не быть» на Балканах
- Обращение - остановим дальнейшее разрушение Сербии!

.jpg)